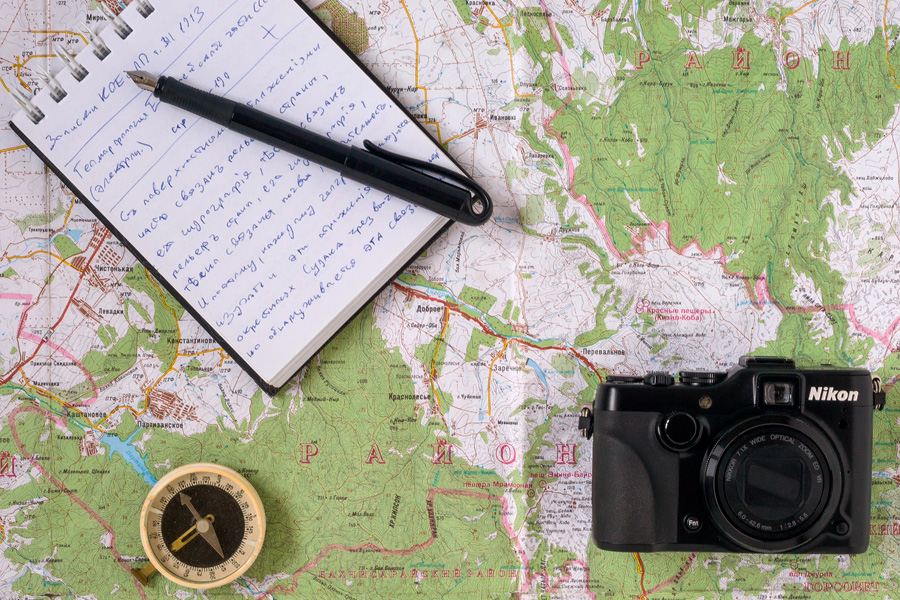-
 Природа
Природа
-
 История
История
-
 Архитектура
Архитектура
-
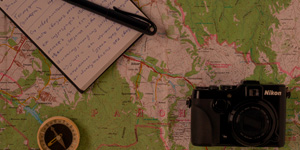 Краеведческие заметки
Краеведческие заметки
Последние публикации:
На Караби-Яйлу ведёт множество троп и дорог. Большая их часть доступна пешеходам, мотоциклистам и водителям подготовленных автомобилей. В сравнении с узкими тропками и горными дорогами, подъём с севера — настоящий проспект. По грейдерной дороге с остатками асфальта проедет обычный легковой автомобиль, был бы только дорожный просвет. Попробуйте проложить маршрут на Караби из Симферополя в картах Яндекс или Google. Сервис предложит два варианта: со стороны Долгоруковской яйлы или через Зеленогорское. О плюсах второго пути знали ещё до появления навигаторов. В путеводителе 1930 года давали такой совет:
… можно совершить экскурсию на Караби-Яйлу по нескольким направлениям. 1) через Молбай, 2) Тайган и 3) Казанлы. Последний маршрут предпочтительнее других потому, что он имеет постепенный, лёгкий подъем. Дорога даже колёсная, отличная. Потом всё время перед глазами открытый вид на прекрасную панораму северной части Крымского полуострова.
При всех преимуществах, у этого пути есть и недостатки: дорога кажется долгой и скучной. Начинается она ответвлением с трассы «Таврида». От неё к селу Зеленогорское идёт асфальтовая лента дороги среди полей. Впереди сизым маревом вздымается яйла. За Т-образным перекрёстком у села Балки нужно свернуть в сторону соседнего Новоклёново и найти на повороте приметную будку — от неё начинается долгий и пыльный подъём на Караби. По пути можно взглянуть на северные отроги нагорья. Например, из окна автомобиля. Большинству такого знакомства хватает. Действительно, что тут смотреть: бугры, балки, посадки сосен. Однако это не так. Уделите этим местам больше внимания, и они заиграют новыми красками.
При разговоре о горных хребтах воображение туристов рисует затяжные подъёмы, вздыбленные к небесам скалы, отвесные обрывы, свист ветра. В большинстве случаев это действительно так. Горы — величественные природные образования, которые вызывают трепет души пополам с желанием чаще нажимать на спуск затвора фотоаппарата. Но туристы не только любуются горами, по ним ещё нужно как-то передвигаться. Вновь выручат хребты. Некоторые из них, будто путепроводы в больших городах, ведут к вершинам или соединяют разделённые ущельями соседние плато. По хребтам проложены дороги и туристические маршруты. Один из примеров — хребет Таш-Хабах, кратчайший путь с Тырке на Караби, с одной яйлы на другую.
В Крыму, как и в большей части стран Евразийского материка, немало памятников эпохи мегалитов. Менгиры, «каменные ящики», кромлехи, петроглифы подробно описаны в научной и краеведческой литературе. К самым известным из них уже более 100 лет водят туристов. Популярны они и у эзотериков. Приверженцы этого течения считают, что такие сооружения возводили у энергоактивных зон или «мест силы». Говорят, эту энергию до сих пор могут ощутить особо чувствительные люди. Чашечные камни или чашечники остаются в тени популярности крымских мегалитов. Хотя их не меньше, чем «ящиков», и уж точно больше, чем менгиров. Особенно много чашевидных знаков на Второй горной гряде, в междуречье Бодрака и Качи. Например, на вершине горы Биюк-Чарыш или Каблук.
На восточной окраине села Ивановка, в тени деревьев на поляне у перекрёстка грунтовых дорог, отдыхает группа мототуристов. Впереди долгий и пыльный подъём на Долгоруковскую яйлу, здесь же приятная прохлада. В середине засушливой осени всё ещё зелена трава. Обычно это верный признак воды, но речки или родника не видно, на воду намекает только торчащая над деревьями башня Рожновского. Отдых окончен, пора и в путь. Заурчали двигатели мотоциклов, брызнул из-под колёс гравий грунтовки. Через 5 минут подъёма по каменистой дороге откроется вид: справа — горные отроги, слева — глубокая, сверху дна не видно, балка. Четырёхкилометровый распадок в известняках яйлы — долина Теренаирского ручья. Его воды подпитывают корни деревьев на зелёной полянке. А ещё поят жителей Ивановки.
Составители справочников и энциклопедий, в том числе Википедии, называют Суботхан самой протяжённой рекой Крымской яйлы. Гордое звание реки едва ли уместно для ручья, длина которого составляет всего 5 километров. Первый упомянул о Суботхане в научной литературе географ И. Петров. Он писал:
Соботканъ представляетъ прекрасный примѣръ карстовой рѣчки: родится изъ земли, течетъ нѣсколько верстъ по ней, потомъ устремляется внизъ и течетъ подъ землею нѣкоторое время, появляется опять въ пещерѣ и снова исчезаетъ невѣдомо куда, чтобы затѣмъ еще блеснуть на солнцѣ своими водами, сорваться со скалы пышнымъ водопадомъ и подъ новымъ названіемъ Су-Учханъ — слиться съ другой рѣчкой — Салгиръ.
То есть не река, а именно речка или ручей. Суботхан не только «прекрасный примѣръ карстовой рѣчки», это ещё и наглядное пособие от самой природы — уменьшенная копия большой реки.
История села Литвиненково и окрестностей богата, она восходит к глубокой древности и охватывает период от скифов и вплоть до наших времен. Однако, обо всём по порядку.
В XIХ веке недавно присоединенные к Российской империи земли Тавриды, манили к себе множество увлеченных изучением истории людей. Некоторые из них оказались на Крымской земле. Одним из таких энтузиастов был А.Я.Фабр.
Родился Андрей Яковлевич в 1789 году, он был потомком крымских немцев. Фабр сквозь годы и превратности судьбы пронёс свою любовь к родине — древней Тавриде. Эта любовь возбудила в нём желание помимо государственной деятельности (на государственной службе он состоял с 1804 года, в 1847 году стал губернатором города Екатеринослав (Днепропетровск), в 1857 году ушёл в отставку и навсегда переехал в Симферополь) заниматься изучением истории. Так, в 1839 году он был одним из организаторов Общества истории и древностей, с 1844 года издавшего 33 тома «ЗАПИСОК ОДЕССКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ» (ЗООИД). В первом томе, к слову, в разделе «География» была опубликована и статья А.Фабра под названием «О древних нагорных укреплениях в Крыму». В 1848 выходит ещё одна статья «О памятниках некоторых народов варварских, издревле обитавших в нынешнем Новороссийском крае». В 1859 году вышла уже целая книга А.Фабра — «Достопамятнейшие древности Крыма и соединенныя с ними воспоминания».
Андрею Яковлевичу принадлежит открытие, которое относится к нашему рассказу. В статье «О древних нагорных укреплениях в Крыму» он описывает открытые им три укрепления, впоследствии опознанные как скифские. Опираясь на исследования Фабра, П. И. Кёппен в книге «О ДРЕВНОСТЯХЪ ЮЖНАГО БЕРЕГА И ГОРЪ ТАВРИЧЕСКИХЪ» 1837 года издания отводит целую главу, посвящённую этим укреплениям их окрестностям и пещере-святилище Кырк-Азиз. Вот полностью эта глава:
БАРУТЪ ХАНЕ. ХОНЫЧЪ. БОРЛА
Отъ Симферополя на Сѣверозападъ, проѣхавъ Калмукъ-кору, гдѣ нѣкогда жилъ и трудился знаменитый Паллась, и гдѣ скончался мужъ строгихъ правилъ Зальфедьдъ, помышлявшій о направленіи Азіатской торговли чрезъ Ѳеодосію, подъѣзжаешь къ Зуѣ, на правомъ берегу который находится урочище Барутъ Ханэ. Тутъ, на скалистомъ и крутомъ берегу, противъ деревень Конечи и Каяасты, вѣроятно находился когда-то обезпеченный валомъ пороховой заводъ, какъ можно судить по Татарскимъ словамъ Барутъ (порохъ) и Ханэ (домъ). Валъ, обезпечивавшій это заведеніе, отъ одного края крутаго берега до другаго, простирается въ длину на 210 шаговъ. Отсюда довольно удобною стезею спускаешься внизъ, къ Татарской святынѣ Кыркъ-Азизъ (сорокъ святыхъ), гдѣ въ пещерѣ, имѣющей въ длину и ширину по осьми шаговъ, находится гробъ краснаго цвѣта, къ которому изъ ближнихъ и дальныхъ мѣстъ стекаются Татары, страждующіе разными недугами и тутъ ищущіе себѣ исцѣленія.
Къ Юговостоку отъ Барутъ Ханэ, на правой сторонѣ Монтаная, находится гора Xонычъ, съ которой можно обозрѣть всѣ окрестности. На ней замѣтны слѣды многихъ жилищъ, каковыя видны и на бугрѣ отдѣленномъ отъ оной лощиною. Тутъ вѣроятно нѣкогда существовалъ одинъ изъ главныхъ наблюдательныхъ пунктовъ, противъ набѣговъ съ Сѣвера.
Далѣе, на правомъ берегу рѣки Бурульчі или Бурунчи, выше селенія Саарчи-Эли, въ урочищѣ вменуемомъ Борда, замѣтны сдѣды укрѣпленія, находившегося надъ скалистою крутизною.
Всѣ эти три укрѣпленія открыты и со всѣми подробностями сняты А. Я. Фабромъ, благоволившемъ сообщить мнѣ составленные имъ планы, которые, къ сожалѣнію, обстоятельства не дозволяютъ мнѣ представить здѣсь моимъ читателямъ.

М. А. Сосногорова, в своём «Путеводителе по Крыму для путешественников» 1874 года издания, описывает всё «по Кёппену», добавляя однако интересное отступление:
Въ 30-хъ годахъ еще всѣ эти укрѣпленія были довольно хорошо видны; но теперь стѣны и остатки укрѣпленій разрушились сильно, хотя еще замѣтны. И что замѣчательно, въ такихъ обширныхъ древнихъ развалинахъ нигдѣ не видно никакихъ признаков христіанской церкви.
Отступление интересно тем, что Сосногорова на руинах укреплений пытается найти остатки христианских церквей, пытаясь отождествить их с памятниками средневековья.
Абсолютной «калькой» является упоминание В. Х. Кондараки в «УНИВЕРСАЛЬНОМ ОПИСАНІИ КРЫМА». 1873 года. Есть, правда, и небольшое отличие (вернее, дополнение):
Исторія этихъ азизовъ не представляетъ ничего особенно интереснаго. Шейхъ, который постоянно охраняетъ эту святыню, разскажетъ вамъ, что здѣсь когда-то 40 братьевъ стояли на молитвѣ, которыхъ безпрекословно убили какіе-то гяуры, ворвавшіеся въ Крымъ. На чемъ основано это преданіе неизвѣстно. Но в Хырхъ-Азизской пещерѣ, какъ-бы въ подтвержденіе этого событія, мусульмане держатъ гробъ краснаго цвѣта, къ которому приближаются съ особеннымъ благоговѣніемъ. Въ Симферополѣ и Карасубазарѣ я встрѣчалъ некоторыхъ стариковъ христіанъ, убѣжденныхъ, что Хырхъ-азизъ нѣкогда составляла христіанскую святыню, прославленную мученическую смертію 40 юношей за свободное проповѣданіе Евангелической истины. Убѣжденіе это до того сильно у нѣкоторыхъ изъ нихъ, что они и въ свою очередь посѣщаютъ эту пещеру съ больными.
У более позднего автора, епископа Гермогена в «Справочной книжке о приходахъ и храмахъ Тавирической епархіи» 1886 года издания, уже появляются неточности и проявляются определённые детали:
А въ 6 верстахъ отъ Зуи, въ имѣніи Каясты, принадлежащемъ татарину Меметъ-мурзѣ Кипчатскому, въ скалѣ Хырк-азизъ (сорокъ святыхъ) есть пещера, гдѣ высѣченъ продолговатый камень наподобіе гроба, порытый зеленымъ сукномъ. Здѣсь, по преданію татаръ, были убиты гяурами 40 братьевъ во время стояния на молитвѣ, — и потому татары возятъ сюда своихъ больныхъ, и, послѣ молитвы, оставляютъ здѣсь кусочки одежды и часть волосъ больнаго, чтобъ вмѣстѣ съ одеждой, и волосами осталась здѣсь и его болѣзнь. Въ маѣ собирается сюда масса татаръ.
Обратите внимание: гроб уже покрыт зелёным, а не красным сукном. В описании добавились оставляемые в Кырк-Азизе кусочки одежды и волос.
Оставил описание Кырк-Азиза в своей статье «Крымские азизы» известный крымско-татарский просветитель И.Гаспринский:
Таковы Кырк-Азиз (сорок святых) на половине пути от Симферополя к Карасубазару при деревне Кая-Асты. Общая могила находится на вершине гряды гор, в большой пещере. Эти сорок шеидов (мучеников) суть павшие на войне. Отличаются они даром исцеления от различных болезней и особенно от умопомешательства. За этими могилами присматривает особый шейх.
К одному из авторов описаний — епископу Гермогену, вернёмся позже, а пока, после знакомства с историческими источниками, продолжим путь.
Полевая, выровненная бульдозером, дорога постепенно приводит нас к мосту из бетонных труб, что пересекают речку Зуя. Её русло обозначено среди полей восклицательными знаками тополей, что растут по берегам. Преодолев 3ую дорога раздваивается у подножия небольшого косогора с невысокой скальной грядой у подножия. Проигнорировав удобства пути по дороге, взберемся на вершину этой миниатюрной горы по траверсу. Скальная гряда здесь по большей части не монолитна. Она разделена на крупные куски выветриванием. Есть у горы и название — Джиранты. Правда его редко вспоминают. Преодолев подъем, передохнув и полюбовавшись открывающимися с вершины пейзажами продолжим нашу прогулку. Выбрав течение Зуи в качестве направления, идем вдоль скал. Их высота постепенно повышается, формы выветривания и разрушения пород становятся разнообразнее. Появляются гроты, карнизы, трещины, отдельные блоки и целые скалы. Склоны покрывает низкорослая кустарниковая растительность. В небольших островках ровной земли, между скал, что отвалились от общего массива, растут небольшие деревья и кусты.
Самое высокое среди этих скал место огорожено от окружающего плоскогорья невысоким, оплывшим от времени валом. В нём кое-где попадаются остатки кладки. В общей форме вала выделяются два характерных выступа. Это остатки башен. Перед нами упоминаемое ранее скифское городище Борут-Хане. В советской литературе оно более известно под названием Зуйское. Помимо стен и башен в виде валов и бугров, можно осмотреть остатки поселения. Оно примыкало восточнее. На поселении сохранилось несколько холмов — зольников. Среди них — совсем свежий грабительский раскоп с разбросанной вокруг керамикой и костями... Исследователей городища Борут-Хане (Зуйское) XIX века мы уже вспомнили. Упомянем и об археологах XX столетия. Древнее укрепление изучали: в 1949 году археолог, руководитель тавро- скифской археологической экспедиции, П. Н. Шульц, в 1968- И. А. Баранов. В 1984 С. Г. Колтухов заложил тут разведывательные шурфы. Они установили, что «обезпеченный валомъ пороховой заводъ» Борут-Хане — на самом деле скифское укрепление. Оно существовало в период III–II вв. до н.э. — I в.н.э.
Примерно в средней части замыкающего укрепление обрыва, в глубокой скальной расселине, видна пещера Кырк-Азиз. К ней же относится отверстие в «потолке» (в нашем скальном «полу») .
Осмотрев скифское городище Борут-Хане (Зуйское) продолжим нашу прогулку вдоль обрыва дальше.
Высота горы идет на убыль. Постепенно она приводит к глубокой расселине между скал Джиранты. За возвышенностью, на противоположном борту расселины в конце XIX века, существовал небольшой хутор Каясты Болгарский. Сейчас место болгарского хутора, упразднённого в 1948 году, занимает полуразрушенная ферма. Дно расселины под сельским кладбищем. К кладбищу от скифского городища ведет тропка, что спускается от скал по небольшому понижению. Спустившись к кладбищу, меняем направление движения и движемся теперь уже по грунтовой дороге против течения речки 3уя, вдоль скал. Миновав кладбище, дорога приводит к словно прислонённым к скале огромным валунам и просторной пещере-гроту. Называется она Федюшкина Кобасы и имеет свою небольшую историю.
В этой, прежде небольшой, пещере в прошлом веке был расположен карьер по добыче глины. Со временем размер карьера рос. Увеличивался и размер пещеры. Рост карьера и пещеры, из соображений безопасности, был остановлен. Однако прохладной пустоте под скалой было найдено практическое применение. Входное отверстие перегородили от стенки до стенки известковыми блоками вперемежку с бутом. Спереди построили большую подпорную стенку из бута, а посередине установили металлические ворота шириной с погрузчик. Так был построен тёмный и прохладный, а благодаря глине ещё и герметичный, склад для хранения яблок. Подсобное помещение не просуществовало долго: с развалом СССР пришло в запустения яблочное хозяйство Литвиненково. С ним и пропала необходимость в холодной пещере-складе.
Интересно, что некоторые экскурсоводы и туристы, не зная историю пещеры-склада Федюшкина Кобасы часто принимают её остатки подпорных стен за старинные. Что же, кто знает, может бутовый камень из этих стен был взят из развалов стен скифского городища Борут-Хане? А может, от болгарского хутора Каясты Болгарский? Это пока неизвестно.
Продолжаем идти вдоль скал. Эти места имеют собственное, практически не упоминаемое, название: Чагарак-Кая. Путь ведёт в живописное урочище у подножия скалы. Главное украшение низовий урочища — роща из вековых ореховых деревьев и речка Зуя, что течёт у подножия. От урочища к пещере-святилищу Кырк-Азиз ведёт сначала натоптанная тропа, а позже и бетонные ступени среди скал. По преданию (сам не проверял), ступеней 40, согласно количеству убитых тут праведников.
Панорама площадки возле входа в пещеру-святилище Кырк-Азиз:
Полноэкранный режим включается двойным кликом (поддерживается не всеми браузерами) или нажатием на иконку ![]()
Плеяда пишущих о Крыме авторов, как было указано выше, оставила нам множество описаний пещеры-святилища Кырк-Азиз. Нельзя сказать, что пещера не пользуется популярностью. С этой же популярностью и связано множество не совсем верных, а то и вовсе неправильных трактовок обрядов в святилище и возле него.
Часто упоминают о жертве, совершаемой возле входа и приготавливаемой в самой пещере. Кровью жертвы при этом окропляют корни вековых ореховых деревьев возле Зуи. Совершение жертвоприношения в Исламе является необязательным, и не будет грехом не совершить это жертвоприношение. Тем не менее, совершение этого обряда является желательным. Так же говорится в суре «Каусар»:
Совершай молитву ради своего Господа и закалывай жертву.
Муххамед, исламский пророк, сказал:
В дни праздника «удхия» (то есть Курбан-байрама) нет ничего любимее Аллахом, чем жертвоприношение ради Него, а животное, принесенное в жертву, явится в Судный день и будет заступничествовать (за совершившего обряд)». «А кто почитает обряды Аллаха, то поистине, это исходит от богобоязненности в сердцах!
(аль-Хадж 22: 32).
Больше всего верующих возле пещеры-святилища Кырк-Азиз собиралось в праздник весны и плодородия — Хыдырлез. В этот день принято совершать ритуальное жертвоприношение. Однако, ни в одном из приведённых выше описаний нет слов о конкретно эпизоде приготовления жертвенной пищи в пещере, а так же не сказано о окроплении кровью жертвы корней ореховых деревьев. Из этого можно сделать следующее: данное веяние пришло к Кырк-Азизу из наших, более современных времён.
Ещё один обряд, полностью несовместимый с исламом, — свечи, которые устанавливают в пещере во время молитвы. Свечи в Исламе не приветствуются совершенно. Даже пророк Муххамед говорил: «Худшее из дел – это новшество». «Всякое новшество – заблуждение, всякое заблуждение – в огне». С другой стороны известно, что пещеру почитали как мусульмане так и христиане, однако мусульман было значительно больше. Не могла небольшая группа христиан закоптить пещеру свечами.
Если в пещере-святилище Кырк-Азиз не готовили жертвенную пищу, и не молились большие группы христиан при свечах, то как же объяснить сильно закопченный свод? Ответ на этот вопрос можно найти в одном из описаний пещеры: для исцеления больного (И. Гаспринский отмечает, что Кырк-Азиз помогал «особенно от умопомешательства») его оставляли в пещере на ночь. Возможно, это и есть первопричина сажи на своде. Страдающему душевным недугом, одним на один ночью с могилой, хоть и праведников, возможно, было просто страшно. Для того, чтобы хоть как-то подавить это чувство, человеку оставляли небольшой, но коптивший источник света.
Разобравшись немного с историей и гипотезами пещеры-святилища Кырк-Азиз, спустимся по ступенькам вниз к подножию горы Чагар-Кая. Продолжим наш путь вдоль речки Зуя и живописных желтых скал. У отдельной, крупной, скалы есть свое название — Кыз-Кая (девичья скала). Отметим, что живописное урочище иногда становится своеобразной лагерной площадкой учеников окрестных сел. Учителя, позволяя играть детям вокруг древней святыни Кырк-Азиз, берегут ее покой. Они не позволяют её ученикам подниматься на ступени и заходить в пещеру. Вновь появляются уже знакомые нам тополя вдоль речки Зуя. За полями видны дома села Литвиненково. Самое время упомянуть и о нем.
В описании пещеры-святилища Кырк-Азиз и Борут-Хане епископа Гермогена упоминается, что Кырк-Азиз расположен «въ имѣніи Каясты, принадлежащемъ татарину Меметъ-мурзѣ Кипчатскому». В Крыму фамилии мурз (высший слой татарского дворянства, имевшее права наравне с князьями) часто происходили от деревень, где они проживали. С фамилией Кипчакских всё сложнее. Кипчаки (по-русски половцы) — кочевники, что некогда составляли «элиту» войск Крымского ханства. От них, вероятнее всего, и произошёл род Кипчакских. В «Статистическом справочнике Таврической губернии» ч.1 «Симферопольский уезд» указано, что экономия «Коясты» принадлежала богатому роду Кипчакских, а вернее трём братьям: Мустафе мурзе, Селямету мурзе и Фазылу мурзе. Первый из них, Мустафа, был образованным и интеллигентным человеком. В 1905 году он, вместе с председателем Исмаилом Гаспринским и другой крымско-татарской интеллигенцией, создал организацию «Иттифак эль муслимин» («союз мусульман»). К мурзе Мустафе рекомендовалось, в случае вопросов, обращаться жителям Симферополя. Второй, кавалерийский офицер Селямет Кипчакский, был кади-эскером (заместителем муфтия). Известен тем, что в 1907 году его поставили на пост исполняющего обязанности главного муфтия Крыма взамен расстрелянного большевиками Ч. Челебиева. Однако, духовные кадии (судьи-чиновники) "почти единогласно отказались помогать С.М. Кипчакскому и от должности отказались". Третий брат, Фазыл, был дворянином-землевладельцем. Ему принадлежали земли деревни небольшой деревни Кады-Эскер-Кой (ныне село Украинка, Белогорского р-на), расположенной в 4 километрах от Кырк-Азиза.
Быть может, именно Мустафа Кипчакский показал в своей экономии священную пещеру Кырк-Азиз. Возможно, он же рассказал историю о «сорока шеидов (мучеников)» Исмаилу Гаспринскому и дал ему толчок к написанию статьи «Крымские азизы»?
Скифское укрепление Борут-Хане (Зуйское) и пещера-святилище Кырк-Азиз на спутниковой карте Wikimapia:
Вот и показалась конечная остановка села Литвиненково. Закончилась наша кольцевая прогулка. Это расстояние сможет преодолеть даже ребенок.
Скифское укрепление Борут-Хане на высоте скалы Чагар-Кая; под ним — пещера-святилище Кырк-Азиз; ниже всего этого — бывшее имение Каясты и советская «пещера-холодильник» — своеобразные «пласты истории» этих мест. И если в обычных обстоятельствах более древние слои с историческими остатками расположены на большей глубине залегания, то тут произошел небольшой парадокс. И в этом парадоксе скифское городище Борут-Хане выше всех, как не крути :-)
Бонус. Небольшое видео с рассказом о Кырк-Азиз и Борут-Хане. В рассказе ведущей есть недочёты...